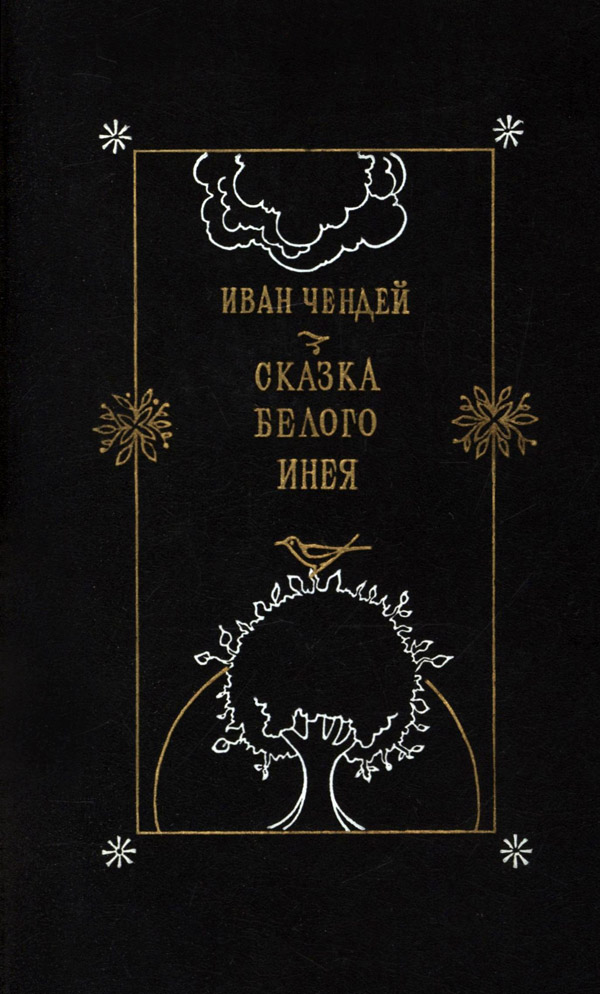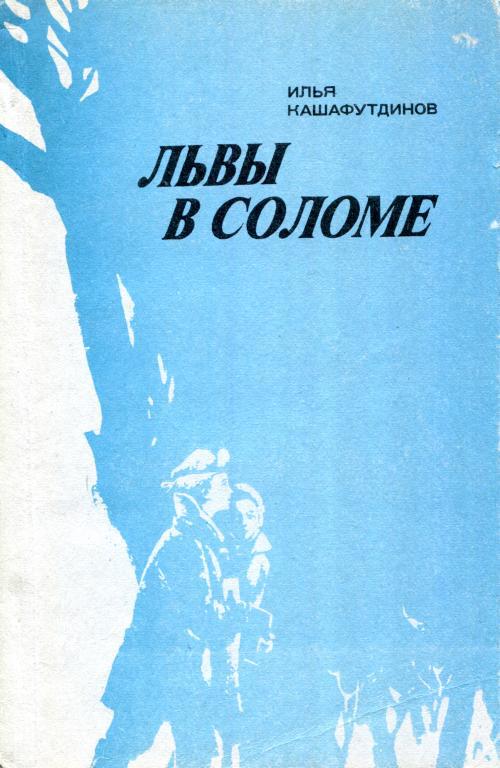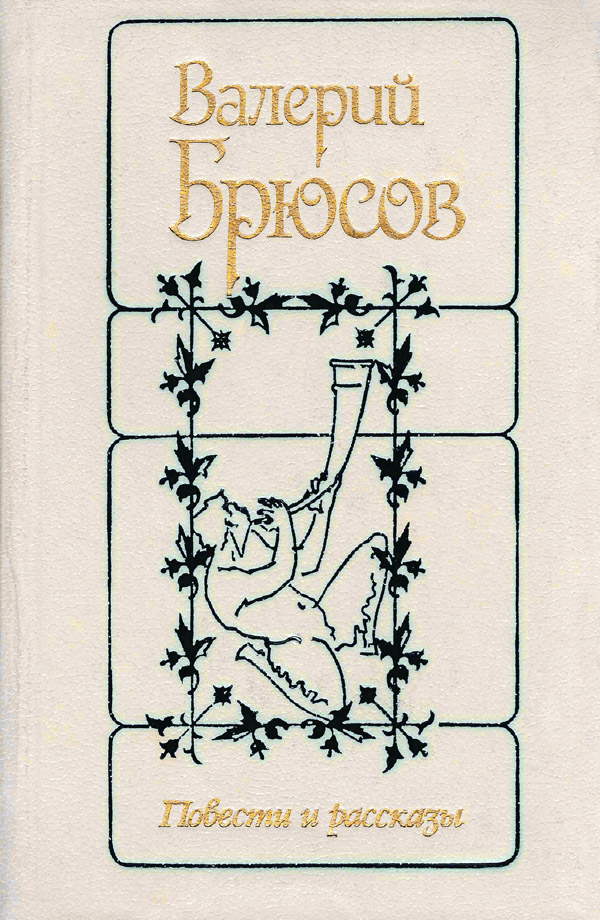Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Новая книга известной советской писательницы Ольги Кожуховой состоит из двух повестей — «Двум смертям не бывать» и «Донник», а также рассказов. Все эти произведения объединены общей темой Великой Отечественной войны. «Двум смертям не бывать» — эта повесть о юной фронтовой разведчице, о ее первой любви и первом подвиге. «Донник» — воспоминание писательницы о своем детстве, о природе степного края, где она родилась и росла. В книгу вошли также лучшие рассказы О. Кожуховой о войне: «В декабре в той стране», «Фотография», «В перевернутом танке» и другие. Художник Лия Степановна Кассис.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Ольга Константиновна Кожухова»:
![Двум смертям не бывать[сборник 1974] - Ольга Константиновна Кожухова](/uploads/posts/books/9717/9717.jpg)